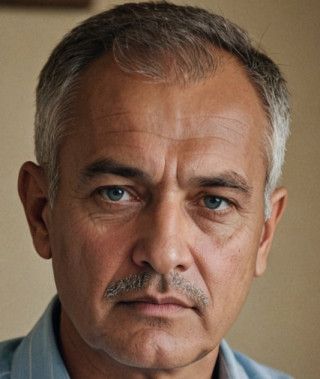Согласно Шору, а он в подкасте говорит, опираясь на результаты опросов общественного мнения (в выборке более 26 млн граждан), анализ электоральных трендов и политический контекст второй половины 2024 года, победа Дональда Трампа на президентских выборах стала результатом сочетания экономического разочарования граждан США, культурного разрыва среди голосующих американцев и необычно высокой явки избирателей, которую Трамп смог использовать лучше, чем того ожидали демократы.
Вот как Шор пришел к таким выводам.
Во-первых, именно экономика США, как, впрочем, и всегда в последние 40 лет, была главным драйвером в избирательной повестке, и Трамп смог ситуацией эффективно воспользоваться. Инфляция хотя и замедлилась к концу 2024 года, оставила у американцев неизгладимый след — избиратели припомнили Байдену (и его вице-президентке Камале Харрис) пиковые цены на бензин и продукты питания, а экзит-полы (согласно Edison Research) зафиксировали, что именно экономические проблемы были важнейшими для 35–40% избирателей. Трамп же вдалбливал избирателям простой нарратив: «Я снова сделаю все дешевле». Он апеллировал к своему первому сроку, когда инфляция не выходила за пределы 1,8% годовых, демократы в ответ припоминали ему налоговые реформы в пользу богатых, резкий рост госдолга и махинации с помощью гражданам во время пандемии — но делали это крайне неудачно.
Во-вторых, Трамп перевернул повестку дня по ключевым вопросам — таким, как преступность и иммиграция. Данные Шора показали, как избиратели в колеблющихся штатах — например, в субурбиях Пенсильвании или Висконсина — восприняли всплеск беспорядков, подпитывавшийся вирусными сообщениями X о городской преступности или незаконном пересечении границ. Трамп опирался на эти настроения с помощью риторики о законе и порядке, который он непременно наведет, в частности — с помощью обещаний о массовой депортации; и это находило отклик у избирателей из рабочего класса, которые считали, что демократы были в вопросах миграции мягкими или нерешительными. Статистика пограничного ведомства США за 2024 год дала рекордные показатели незаконных пересечений границы (более 2 млн), и Трамп использовал это в качестве предвыборного оружия, в то время как ответы демократов на его риторику — например визит Камалы Харрис на границу с Мексикой — выглядели откровенно слабыми или запоздалыми.
В-третьих, электорат по основным этническим группам просто ушел от демократов. Шор показал, что Трамп выигрывал у Байдена — Харрис 10–15 процентных пунктов среди латиноамериканских избирателей (особенно мужчин моложе 40 лет) и 5–10 процентных пунктов среди чернокожих избирателей — по сравнению с 2020 годом, согласно AP VoteCast. Дело было не только в собственно политических предпочтениях, а скорее в срезе отношения избирателей и по другим насущным американским проблемам. Вызывающая, аутсайдерская личность Трампа, усиленная мемами X и выступлениями в подкастах, нашла отклик у молодых, менее идеологизированных избирателей, которые считали демократов занудами или элитаристами. Образовательный разрыв среди избирателей также углубился: согласно экзит-поллам выпускники колледжей предпочли демократов (55% на 45%), но избиратели без высшего образования вдруг резко перешли на сторону Трампа (60% на 38%).
В-четвертых, демократы неправильно истолковали феномен высокой явки, который всегда работал на их победу на выборах любого уровня. Шор подчеркивал, что избиратели с низкой вовлеченностью, а именно те, кто не зациклен на политике, — решили исход выборов, и они отдали голоса Трампу с двузначным перевесом (более 20 процентных пунктов). Демократы делали ставку на отношение к абортам и демократию как на мобилизующие вопросы типа поправки Доббса (о конституционном праве на аборт), а также на захват Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 году, но хотя и увеличили свою базу (например, дополнительно мобилизовали женщин в «синих» городах, и так голосующих в основном за демократов), это радикально не повлияло на менее вовлеченного среднего избирателя в колеблющихся штатах вроде Мичигана, где экономическая нестабильность стала самой серьезной проблемой. А кампания Трампа была с ошеломляющей точностью нацелена именно на этих избирателей, он виртуозно использовал микроинфлюенсеров и местные радиоканалы, согласно сообщениям в X от инсайдеров кампании.
В-пятых, сам нарратив (мессидж избирательной кампании) демократов был плохо подготовлен и стал для них катастрофическим. Шор и Кляйн раскрыли, как сосредоточенность демократической партии на прогрессивных модных словечках — климатической справедливости, системном расизме, DEI, гендерном разнообразии — оттолкнула прагматичный американский центр. Трамп, напротив, оставался прямолинейным: «рабочие места, безопасность, Америка прежде всего». Его команда также опиралась на цифровые платформы, наводнив X и TikTok клипами, в которых он высмеивает вокизм демократов, что более эффективно прорывалось к избирателю сквозь информационный шум, чем вялые мессиджи Байдена-Харрис. Веб-аналитики (например, FiveThirtyEight) отметили, что расходы демократов на избирательную рекламу были значительно большими, чем у Трампа, но неэффективными и нацеленными, как оказалось, на уже сделавших свой выбор демократических избирателей.
О чем важном не говорили Кляйн и Шор
Кляйн и Шор зафиксировали в подкасте, что Трамп не изменил своих политических позиций за восемь лет — это их главный аргумент в пользу того, что электорат изменился естественным путем. Однако они не учли, что менялась не риторика Трампа, а способы ее распространения. Фактически Трамп создал систему «цифрового автократизма», в которой информация перерабатывается, фильтруется и тиражируется таким образом, что правдой выглядит не объективная реальность, а то, что последние 10 раз он повторял и разгонял по социальным сетям. Его стратегию можно описать как управляемый информационный хаос, где дезинформация повторяется столько раз, что воспринимается как истина. Эта модель превосходит традиционную пропаганду, потому что в ней уже не требуется государственная цензура — достаточно контролировать алгоритмы распространения.
Кляйн и Шор практически не затронули и тему тотального изменения принципов политического информирования. Они фиксируют, что избиратели, мало интересующиеся политикой, оказались основной группой, проголосовавших за Трампа. Но почему это произошло — подкаст не разъясняет. Мы полагаем, что в США давно произошла смена медийного ландшафта. Трамп, в отличие от демократов, не просто адаптировался к этим изменениям, но смог их сформировать, если вообще не создать. Еще в 2016 году его победа была частично обусловлена использованием Big Data, психографического таргетинга (так называемый data-scandal, отрицаемый трампистами и Cambridge Analytica) и алгоритмов социальных сетей.
Кляйн и Шор не указали, что еще одним фактором победы Трампа, и это представляется нам крайне важным, стало мастерство его избирательной кампании в Twitter (X), как и микротаргетинг в социальных сетях, превративший всю цифровую территорию США в машину по сбору голосов в пользу Трампа.
На X Трамп был не просто кандидатом — он был двигателем контента практически в одиночку, публикуя клипы, которые высмеивали «идеологию пробуждения» демократов или демонстрировали его «возвращение из юридического ада», набирая десятки миллионов просмотров за считанные часы. Влиятельные лица движения MAGA, вооруженные аналитикой в реальном времени (например, данными «пожарного шланга» X), наводнили платформу мемами и остротами, достигнув пика смотримости среди молодых проверенных избирателей — латиноамериканских парней моложе 40 лет и чернокожих парней поколения Z — которые, согласно вэб-аналитике, делились ими втрое чаще, чем дряблыми постами демократов.
Команда Трампа придала этому всему дополнительное ускорение с помощью микротаргетинга в TikTok, Instagram и даже в таких малоизвестных ресурсах, как Rumble, используя данные, которые, по слухам, повторяют сценарий скандала Cambridge Analytica в 2016 году. Они наносили точечные удары демократам под дых: сельские избиратели Мичигана увидели рекламу «Байден на границе хаоса» с кадрами караванов мигрантов, в то время как рабочие складов в Джорджии увидели ролики «Трамп снижает инфляцию», которые были привязанные к их почтовым индексам. Демократы тем временем вбухивали деньги в помпезные телевизионные ролики, размахивая общими обещаниями «американской надежды», которые едва ли распространялись в сети, — FiveThirtyEight зафиксировали, что их эффективность сильно отставала от эффективности кампании Трампа.
X стал его настоящим рупором, МАГА-фоном, круглосуточным предвыборным ралли нон-стоп, где он владел бесконечной перемоткой твиттов, а потом уже микротаргетинг с хирургической точностью превратил «лайки» и перепосты в избирательные бюллетени, заставив демократов буквально задохнуться в его цифровом облаке.
Также в подкасте авторы не концентрировались на поддержке техноолигархами Трампа, что дало значительный вклад в его победу. Такая поддержка разобрана нами в статье «Алгоритмическая анархия» здесь, и конечно это не только вопрос финансовых вливаний в избирательную кампанию Трампа корифеев Кремниеовой долины, а прежде всего их личное влияние на умы и голоса американского избирателя, в первую очередь через соцсети, ими же и созданные.
Победа Трампа как искусство невыполнимых обещаний
Если Трамп и республиканцы что-то осознали к 2024 году, так это то, что истина больше не диктуется фактами, поскольку конструируется нарративами. Политическая борьба, которая еще недавно зависела от аналитики, дискуссий и интеллектуальных аргументов, требующих доступа к реальному избирателю, теперь функционирует по принципу максимизации обещаний и минимизации диалогов. Трамп использовал собственные цифровые ресурсы не для того, чтобы обосновывать идеи или дискутировать с оппонентами, а чтобы штамповать обещания несчастной Америке в таком количестве, что их невозможно было проверить, но можно было на подсознательном уровне запомнить, поскольку они запакованы в брэнд-рефлекс МАГА.
Вспоминаем «принцип Брандолини», описанный нами в статье о дезинформации. Это стратегия «информационного флудера», где истина не важна, а важен массив производимого контента и легкость доступа к потребителю. Можно сказать, американцы пали жертвой изобретенного ими товарного маркетинга и изобилия выбора, составляющего основу процветания этой страны.
Метод нельзя назвать новым. Мы видим его поголовное использование всеми авторитарными режимами, в маркетинговых кампаниях, в популистских движениях, но Трамп поднял его на прежде недостижимый цифровой уровень, объединив с алгоритмами социальных сетей и с управлением большими массивами личных данных. Если раньше обещания (в том числе невыполнимые) должны были хотя бы минимально коррелировать с возможностями их реализации, теперь этого не требуется. В цифровой среде достаточно повторить их много раз, чтобы они превратились в социально допустимый нарратив.
Можно сказать, что Трамп действовал в духе рассуждений Гарри Франкфурта, автора книги »О чепухе», который определил «постправду» как дискурс, в котором говорящий не заботится, прав он или нет, ему лишь важно создать эффект правды. В этом смысле Трамп не просто манипулировал массами, он перезапускал политический дискурс в условиях, где сам дискурс заменяется на поток заявлений без необходимости их верификации.
Поэтому Трамп и отменил фактчекинг — американцу, по мнению Трампа, важно и достаточно верить только Трампу, а не проверять, что он говорит, поскольку избрание Трампа — не что иное как акт божественной воли, об этом говорила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс еще в 2019 году, а уж после пережитых в 2024 году покушений Трамп и вовсе уверовал в провидение.
Это уже не начало тоталитарного преобразования США, но значительное продвижение на пути к тоталитарной диктатуре.
Трамп понимал, что если продвигать обещания через традиционные медиа, где есть фактчекинг, экспертные комментарии и интеллектуальная контраргументация, они потеряют силу. Поэтому он опирался на X, TikTok, Telegram, где нет необходимости объяснять, нет необходимости проверять факты, а есть только непрерывная публикация все новых и новых постов и мнений. Если кто-то и заметит несоответствие, то уже завтра нарратив изменится, и новый поток информации смоет старый. Тем более что проверка фактов — это тяжелый труд, а гражданам США, по мнению Трампа, явно есть чем заниматься, кроме как проверять факты.
Французский философ Жорж Сорель (большой поклонник русского большевизма и один из интеллектуальных предтеч фашизма) в работе «Размышления о насилии» анализировал роль мифов в политике и подчеркивал, что миф — не ложь и не правда, но инструмент мобилизации масс, который действует независимо от фактической обоснованности. В политике популистов неважно, можно ли реализовать обещание, – важно лишь, чтобы оно создавало эффект неминуемой перемены.
Именно это и делает Трамп, сам знатный популист, штампуя заявления, которые не обязательно исполнимы, но заряжают электорат и призывают действовать, прежде всего путем голосования за него на выборах. Девиз всех популистов мира — «Главное оружие — не правда, а скорость распространения мифов», и именно по этому принципу работает индустрия манипуляции массовым сознанием, описанная Хансом Магнусом Энценсбергером. Медиа не просто передают информацию, утверждает он, – они формируют саму реальность в умах аудитории, а скорость распространения нарратива играет ключевую роль.
Американец Тони Шварц еще 40 лет назад назвал медиа «Вторым Господом», а его книга с таким названием, с дарственной надписью Шварца (кстати, литературного негра, нанятого Трампом для написания книги «Искусство сделки»), есть в библиотеке одного из авторов этой статьи. Трамп, мастер цифрового популизма, понял, что в условиях алгоритмических платформ правда — это не то, что доказуемо, а то, что лучше тиражируется и «горит» в соцсетях, сжигая остальные повестки дня и заодно саму правду.
Ну что же, думает Трамп — сопутствующий ущерб: двигаемся дальше. Можно об этом почитать у Эдварда Бернейса, который в знаменитой книге «Пропаганда» описывал роль сознательной манипуляции в формировании общественного мнения. Бернейс утверждал, что те, кто управляет потоками информации, управляют и мышлением масс.
Современные алгоритмы социальных сетей лишь усилили этот эффект, позволив политикам создавать и распространять мифы быстрее, чем кто-либо успеет их опровергнуть. Трамп лишь довел метод автократического маркетинга в эпоху алгоритмов до цифрового совершенства. В этом реальное искусство Трамповской "сделки", поэтому он и победил на выборах второй раз, победил уже осужденным, находящимся под прицелом убийц, с ворохом обвинений в государственной измене, обмане, растрате... Они утопили бы любого политика, но не Дональда Трампа.
Какие выводы делают Эзра Кляйн и Дэвид Шор
Личное возвращение Трампа в политику сыграло решающую роль. Он пережил юридические баталии и стал новатором в американской политике: бывший президент, осужден за мошенничество (и не только), пережил два импичмента и два покушения, и все это в сопровождении слухов и теорий заговора в СМИ, прежде всего в Х, — смог позиционировать себя как реальную политическую силу, как несгибаемого и волевого политика. Избиратели — особенно его электоральная база — увидели, что он настоящий победитель, а попытки демократов изобразить его как угрозу для американской демократии оказались никчемными. А массы во всех странах с удовольствием голосуют за победителя. Октябрьский сюрприз от утечки оплошности Байдена (раскрученная в соцсетях, но неподтвержденная речевая ошибка президента) им не помог, но положительный импульс для Трампа уже был зафиксирован.
Трамп победил просто потому, что он лучше понимает несбыточные желания и надежды американских избирателей — их злость из-за высоких текущих расходов, обеспокоенность хаосом внутри страны и скептический настрой по отношению к американским институтам. Демократы опирались на свою реальность: коалицию, согласие и сценарии, которые не адаптировались к перемене мнений избирателей.
Данные Шора (а мы помним, что он изначально специалист по анализу данных) подтверждают это: медианный избиратель в 2024 году был менее либеральным, менее вовлеченным и более практичным, чем в 2020 году, и Трамп стал реальным героем этого тектонического электорального сдвига. Теперь демократам предстоит серьезно это все осмыслить, перенапрячься и сильно измениться, как предполагает Шор и другие политические комментаторы, чтобы вернуть себе предпочтения избирателей на выборах в Конгресс в 2026 году.