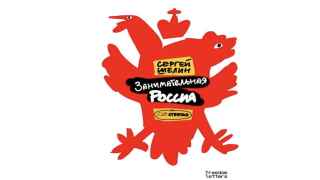Сергей Шелин ставит целью описать феномен России, то есть «понять умом» ее. Над этой задачей бились и бьются многие в поисках «общего аршина», который почему-то так и не удается найти. Шелин предлагает свой способ, на мой взгляд, весьма красивый.
Он сразу признается, что его книга не претендует на научность, то есть строгую доказательность и аналитичность. Она состоит из тезисных ответов на вопросы: относительно особенностей государственного устройства, характера населения, общественных институций и проч. — и пояснений к этим тезисам.
Разумеется, в комментариях Шелин не может полностью отрешится от хотя бы какого-то «аршина», то есть от сравнений российских реалий с подобными же в других странах. Сопоставления эти порой весьма неожиданны и экзотичны. Но в целом ответы на вопросы антиномичны и парадоксальны, то есть, на самом деле, отрицают саму возможность найти аналог типологическим российским чертам где-то еще.
И получается, что в России нет ничего, что соответствует понятиям, обыкновенно определяющим государственную и социальную структуру страны. Привычные и общеупотребительные термины имеют совершенно иное содержание, наполнены другим смыслом.
В России вроде бы есть общество, но гражданского общества — нет.
Есть Государственная дума, но это не парламент.
Народ (нация)— есть, но «особенный» — путинская нация, наследница «советского народа», то есть нечто не вполне соответствующее дефинициям народ и нация.
Есть элиты — но опять-таки не в особом смысле слова.
Можно сказать, что Россия — автократия, но сравнивать ее приходится с режимом Каддафи — и то с оговорками.
Есть автократ, но и он, условно говоря, белая ворона в кругу других автократов.
Есть церковь, но как государственный институт, то есть по сути ее нет.
Интеллигенции теперь уже тоже нет.
И так далее.
Если посмотреть на сухой остаток, то окажется, что вообще почти ничего нет:
«РФ — страна без современных средних слоёв, с замкнутыми на государственного нанимателя и завязанными на теневые промыслы массами и с окостенелой чекистско-полицейской номенклатурой.
Если бы сорок лет назад тогдашним труженикам органов позволили вообразить для себя рай, то он был бы именно таков».
Иными словами, нет ничего, кроме ФСБ и великой русской литературы.
Правда, в существовании последней принято сомневаться со времен Виссариона Григорьевича Белинского и до сегодняшнего дня. Вот, кстати, замечательная цитата из Андрея Белого, точнее его устная импровизация, пересказанная Мариной Цветаевой в очерке «Пленный дух». Андрей Белый говорит о литературной группе ничевоков, но это лишь повод сказать о другом:
«Ничевоки, это блохи в опустелом доме, из которого хозяева выехали на лето (…) Пустая дача: ча, и в ней ничего, и еще ки, ничего, разродившееся… ки… Дача! Не та бревенчатая дача в Сокольниках, а дача — дар, чей-то дар, и вот, русская литература была чьим-то таким даром, дачей, но… (палец к губам, таинственно) хо-зя-е-ва вы-е-ха-ли. И не осталось — ничего. Одно ничего осталось, поселилось. Но это еще не вся беда, совсем не беда, когда одно ничего, оно — ничего, само — ничего, беда, когда — ки… Ки, ведь это, кхи… От всего осталось не ничего, а кхи, хи… На черных ножках-блошки… И как они колются! Язвят! Как они неуязвимы… как вы неуязвимы, господа, в своем ничего-ше-стве! По краю черной дыры, проваленной дыры, где погребена русская литература (таинственно)… и еще что-то…на спичечных ножках — ничегошки. А детки ваши будут — ничего-шеньки».
Страна ничевоков — наверное, хорошее определение.
И ничего, кроме ФСБ, нет.
В принципе, на этом можно было бы и остановиться.
Автор приходит к печальным выводам относительно возможных изменений в России: заглядывает аж в послезавтрашний день и сразу же признается в утопичности преобразования режима (5%)
Есть слабая надежда — на протяжении истории Россия пыталась приблизиться к «общему аршину», то есть к западным идеалам и образцам (в конце концов, и великая русская литература вскормлена Западом):
«В мировую моду должны вернуться ценности личных прав и свобод. Россия редко игнорирует мировую моду. Она её усваивает в утрированном или пересочинённом виде… Россия никогда не поворачивала к свободе, если к ней не поворачивал остальной мир».
Но дело в том, что сегодня речь, кажется, идет не о феномене РФ и очередной неудачной попытке пересадить на отечественную почву либерально-демократические ценности, а о завершении или мутации цивилизационного проекта Нового времени, оформившегося еще в эпоху Просвещения.
Известное восклицание поэта (поставленного Шелиным в одном ряду с Петром I, Екатериной II и Путиным) «Паситесь, мирные народы» со всеми атрибутами стада: кнута, ярма, мяса и шерсти, — кажутся людям, «принимающим решения», все более привлекательными, а вот «дары свободы» и прочие гуманитарные излишества («чести клич») – изжившими себя инструментами управления. Пасти можно и без них. И в этом смысле РФ, как специалист по проведению социальных экспериментов в одной отдельно взятой стране, видится флагманом, даже застрельщиком (во всех смыслах слова) процесса.
Антиномии и парадоксы Шелина остроумны, как и комментарии к ним, как и сама идея апофатического описания России. Единственно, что меня несколько смутило, — краткий экскурс в историю России с перечнем архетипических черт, универсалий российского исторического развития. Ну вот, например:
«Неспособность подпустить посторонних к рычагам записана в идеологических генах российского правящего класса. На любое давление снизу чиновничество России во все эпохи отвечало смыканием рядов и ужесточением режима. Так было и в либерально-царистские времена, и в советские, и в послесоветские … Великие реформы Александра II продвигались, пока никаких выступлений снизу не было. Но когда в 1860-е такие выступления начались, реформы закончились. Руководящий класс понял, что на часть его власти покушаются, и сомкнул ряды. Многие тогдашние оппозиционеры не были экстремистами или не сразу ими стали. Но обращаться как с экстремистами с ними стали сразу».
Но реформы (и судебная, и военная, и земская) – вплоть до начала ХХ века. Контрреформы Александра III (не отмена, а изменение принятых проектов) начались после убийства Александра II в 1881 году. Первое покушение на него произошло в 1866 году, а затем в 1867, в 1879 (дважды), в 1880-м. Экстремизм, то есть террор, как способ борьбы с властью, формировался именно в это время. «Земля и воля» — организатор «первой политической демонстрации» в Петербурге в 1876 году, на которую дальше ссылается Шелин, — после провального хождения в народ, неоправдавшихся надежд на крестьянское восстание в 1863 году, сделало ставку на политический террор.
И не только этот эпизод, но и другие исторические параллели и обобщения — скажем так — не вполне корректны.
Если уж говорить об истории, то, кажется, любимым развлечением в каждую новую эпоху в России, стало сбрасывать с корабля современности не только Пушкина, но и исторический опыт. Каждый раз начинать историю с нуля, отрекаясь от прошлого, а затем снова обращаться к нему, приспосабливая к с своим нуждам, перекраивая заново. Исправление, переделывание или уничтожение своего прошлого, одна из специфических российских примет.
Так что, получается, и истории в России нет.