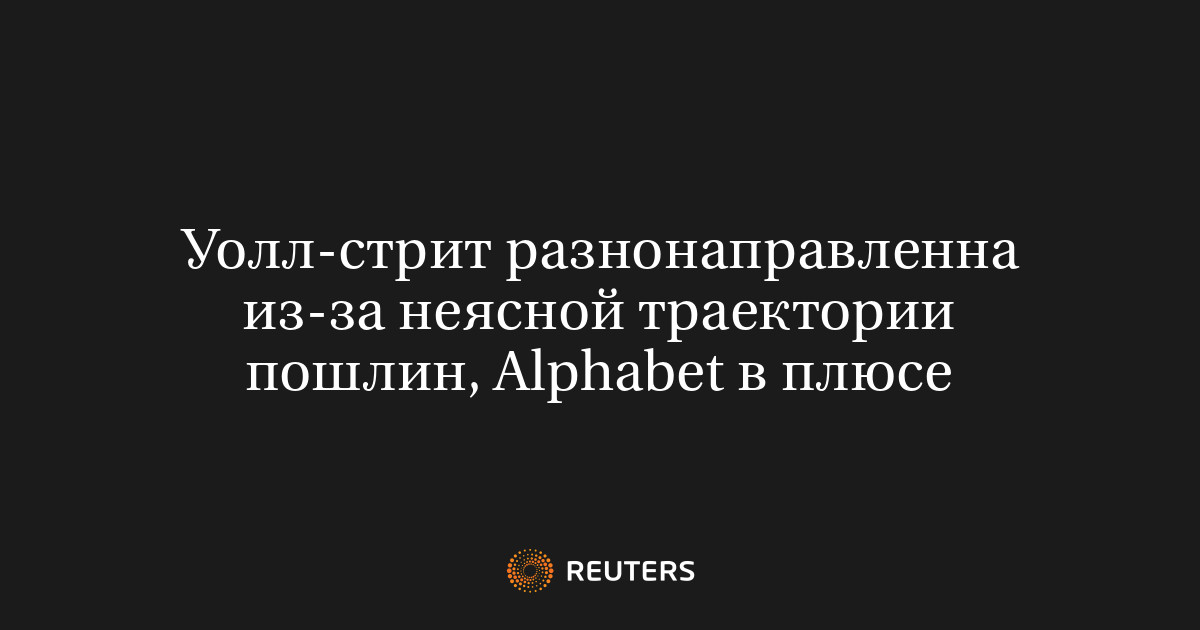Вышедший на Netflix фильм Зака Снайдера «Армия мертвецов» (Army of the Dead) — хороший повод вспомнить, что мы знаем о зомби, их видах, эволюции и роли в истории кинематографа. Зачем они вообще нужны и почему нам не надоедают, хотя мы видели уже десятки, если не сотни версий зомби-апокалипсиса.
Шоу должно продолжаться
Меняются разве что декорации. Действие «Армии мертвецов» разворачивается в Лас-Вегасе. Как так вышло, из эффектного пролога не вполне ясно, да и не важно, но теперь столица игорного бизнеса обнесена стеной и президент США планирует прекратить безобразие, сбросив туда небольшую ядерную бомбу в День независимости, — отмечать, так с размахом (тут, очевидно, целились в Трампа, но к моменту премьеры сатира устарела). Обстоятельство номер два: в сейфе одного из казино лежат $200 млн и задача отряда во главе с героем Дейва Батисты (помните татуированного громилу из «Стражей Галактики»?) — достать их оттуда, пока не рвануло. Времени — примерно сутки.

Уже из этих вводных понятно, что перед нами скорее «Побег из Нью-Йорка», чем «Рассвет мертвецов», точнее, то и другое в одном флаконе, Джон Карпентер встречает Джорджа Ромеро, вопрос только в том, сумеет ли Снайдер извлечь из этого новые смыслы или ограничится кровавой дискотекой, устраивать которую он любит и умеет.
Ответ — дискотека, но это не значит, что зомби исчерпали смысловой потенциал. Оживший мертвец — универсальный Другой и в этом качестве остается важнейшим инструментом социального комментария в поп-культуре, со временем ничуть не теряющим актуальности.
Угнетенный класс
Уже в первом фильме, заложившем традиции жанра, — «Белом зомби» (1932) Виктора Гальперина с легендарным Белой Лугоши в роли мастера вуду — оказывается зашит социальный контекст. Зомби здесь — черные рабы, и это никого не смущает, пока ужасное превращение в ходячего мертвеца не происходит с приехавшей на Гаити белой невестой.

В отличие от могущественного вампира зомби — всегда «низший Другой», угнетенный, лишенный собственной воли, управляемый кем-то или просто следующий инстинктам голодной толпы. На базовом уровне страх перед зомби имеет не столько мистическую, сколько классовую природу — это страх привилегированного сословия перед массой. Со временем мотив усложняется, и история жанра представляет собой, по сути, эволюцию отношения к Другому. А отношение, в свою очередь, проявляет природу человека и социальной реальности. Именно в этом и состояло открытие американского режиссера Джорджа А. Ромеро, главного классика жанра, принципиально избегавшего слова «зомби».
Верность материалу
Ромеро занимает особое место даже в коротком списке режиссеров, включающих в название фильма свою фамилию (как Федерико Феллини, Тим Бёртон или Джон Карпентер). Он выпустил «Ночь живых мертвецов» в революционном 1968-м и с тех пор до самой смерти в 2017-м старался высказываться по всем актуальным вопросам с помощью единственной метафоры. Ожившие мертвецы, к которым их создатель относился с отеческой нежностью, годились практически для любого социального комментария.
Такая стратегия непривычна для кино, но широко распространена в другой области. Многие художники всю жизнь работали с фирменным материалом: Йозеф Бойс — с войлоком и жиром, Гюнтер Юккер — с гвоздями, Мэтью Барни — с вазелином. Ну, а Джордж А. Ромеро работал с ходячими трупами.
Простые правила их существования на экране не менялись: мертвецы были заторможены, ели живых, а умирали насовсем от вышибания мозгов, которые им не были особенно нужны. Менялись контексты и обстоятельства.

«Ночь живых мертвецов» поразила зрителей не только минимализмом, черным юмором и артистической свободой, но и выбором на главную роль актера-афроамериканца — и, конечно, финалом, в котором его герой, единственный выживший после нападения мертвецов, погибал от рук белых полицейских: жанровый фильм неожиданно жестко подытожил 1960-е.
Десять лет спустя в «Рассвете мертвецов» (1978) критики увидели уже сатиру на общество потребления. В новом веке «Земля мертвецов» (2005) манифестировала обострение классовых конфликтов, а в «Дневниках мертвецов» (2007) неутомимый Ромеро комментировал новые медиа, снимая зомби-апокалипсис в стилистике новостного репортажа. И, наконец, в фильме «Выживание мертвецов» (2009) предлагал возможные сценарии сосуществования с Другими: пока радикалы привычно стреляли ходячим трупам в голову, группа энтузиастов пыталась переключить их на новую пищевую цепочку (чтобы ели не людей, а животных) и приспособить к несложным сельхозработам.

Страшно жаль, что Ромеро не дожил до пандемии COVID-19, — его любимые герои наверняка бы прекрасно освоились в нашем новом мире. И надо признать, что в каких-то аспектах реальность даже превзошла зомби-хоррор.
Шустрые и мертвые
Эволюция зомби шла по двум основным направлениям. Во-первых, они становились умнее (в «Земле мертвых» обретая, к примеру, классовое сознание), а во-вторых, быстрее. Иногда это сочеталось, как в экранизации классического романа Ричарда Мэтисона «Я — легенда» о последнем живом человеке в мире не то мертвецов, не то мутантов или вампиров, не выносивших дневного света, — в фильме 2007 г. это была нечисть нового типа, опасная, коварная и способная к организации.

Но чаще зомби служили ходячими мишенями и грушами для битья, как в компьютерных шутерах, самые популярные из которых заслужили перенесения на киноэкран (как не вспомнить франшизу Пола У. С. Андерсона «Обитель зла», где муза режиссера Милла Йовович элегантно сносила мертвякам головы длинными ногами). Зак Снайдер в новом фильме тяготеет скорее к этой традиции, но пытается сохранить серьезный вид, хотя мог бы ни в чем себе не отказывать — как, например, Роберт Родригес в «Планете страха» (2007), где с зомби лихо разбиралась одноногая стриптизерша, пристроив вместо протеза автомат. (Отметим в скобках, что «Армия мертвых» задумывалась почти тогда же — в 2009-м, — была более-менее похоронена и возродилась к новой жизни, лишь пройдя два круга «производственного ада».)

Очередной расцвет зомби-хоррора, пришедшийся на нулевые, с одной стороны, модернизировал живых мертвецов, а с другой — подорвал уважение к ним. Дошло до того, что в фильме Эдгара Райта «Зомби по имени Шон» (2004, оригинальное название Shaun of the Dead очевидно пародировало ромеровский Dawn of the Dead — «Рассвет мертвецов») герои решили, что лучшее место, в котором можно переждать зомби-апокалипсис, — это старый добрый паб.

Поколение Z
Второе десятилетие нового века приносит в образ зомби новые черты. Его пытаются не только убить, но и понять. Как минимум — выстроить осмысленную линию защиты. Показателен высокобюджетный триллер Марка Форстера «Война миров Z» (2013) по роману Макса Брукса, последовательно рассматривающий различные национальные стратегии во время зомби-пандемии (о нем не вспомнили в 2020-м, а зря). Тоталитарная Северная Корея решает вопрос путем репрессий против собственного народа (повырывав всем зубы, потому и не кусают). Израиль доводит до апофеоза политику изоляции, отгораживаясь от опасных территорий неприступной стеной, хотя и пускает внутрь не пораженных зомби-экстремизмом арабов (до добра это, понятно, не доводит). Американцы привычно отправляют в горячие точки планеты спецназ. И только герой Брэда Питта постепенно созревает до правильной формулировки вопроса. Если ты обречен на съедение и поглощение, остается последний шанс — надо придумать, как стать невкусным.

А если шансов не остается? В фильме Колма Маккарти по роману Майка Кэри The Girl with All the Gifts (2016, в нашем прокате — «Новая эра Z») героиня Гленн Клоуз в поисках вакцины против зомби-эпидемии изучает детей, которых содержат как опасных преступников в отдельных камерах подземного бункера. Это второе поколение, они не были укушены, а заразились внутриутробно. Внешне совершенно как люди, только умнее. Но на запах человека реагируют однозначно — истекают слюной и клацают зубами. Если только не съели перед этим, например, кошку.

И вот этот фильм — тоже новое поколение, задающее проникшие в поп-культуру вопросы эпохи постгуманизма. Большинство авторов зомби-триллеров останавливаются на том, как выжить: это ужас перед Другим в чистом виде. Джордж Ромеро размышлял над тем, как существовать рядом с Другим. Кэри и Маккарти, авторы The Girl with All the Gifts, делают следующий шаг. Их вопрос: что дальше? В смысле после человечества. И приходят к выводу, что если цивилизацию нельзя сохранить, то можно попытаться ее передать.
То есть скоро мы все умрем, но есть и хорошие новости.